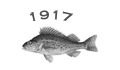История эта кажется столь невероятной, что прочитай о ней где-нибудь, — не поверишь, посетуешь
на автора за небывальщину. И все-таки она – истинный случай.
Произошло это в живописной, на крутом косогоре, деревушке Городец на правом берегу озера летом 199…года. И ныне, куда ни прибудешь на озерных плесах – в Ореховку или Доброе, в Мошенку или Сосницу на другом берегу озера (везде работала «сарафанная почта»), — всюду тебе поведают о том невероятном, что произошло с Ольгой Петровной Егоровой.
Я услышала обо всем от самой бабы Оли, как зовут ее в деревне.
Приехала навестить ее и ненадолго уйти в тишину от напряженной московской жизни. Отдохновения не получилось: рассказ Ольги Петровны и ее соседей всколыхнул душу своим драматизмом… и тайной.
…Люди видели, как он трижды подходил к тому месту на краю деревни, где в начале войны стоял дом Егоровых, справа от дороги на Доброе. И слышали, как говорил он женщине, что была с ним: «Тут и признака нет, что дом стоял». Там теперь и вправду лишь лопухи да лебеда, а последняя из городецких Егоровых, Ольга Петровна, живет ныне на другом краю деревни. Потом пошел он по деревне и увидел: сидят на лавочке и судачат. Остановился, поздоровался, спросил, кто с войны жив остался. Ему отвечали. Он не дослушал, остановил рассказчика и спросил, жива ли Ольга Петровна Егорова. Ответили – жива, сказали, где живет. И вместе со своей спутницей он пошел к избе, что ему указали.

Баба Оля красила утром полы в сенях, устала и прилегла за печкой. Но услышала стук в окошко. Поняла, что зовут, и вышла на крыльцо.
Увидела: стоят двое, чужие. Мужчина в чистое одет: костюм черный новый, рубашка белая, совсем седой, хоть и не старец, и женщина, видно, моложе его, жена ли.
«Что за люди, зачем звали», — едва подумала спросить баба Оля, как услышала:
— А давно ли твоего дома нет, там у дороги на Доброе?
— Давно. С бомбежки угол поехал, а потом и вовсе развалился, вот и перешла сюда, — быстро ответила она, и вдруг осеклась. «А отколь он про тот дом знает, что в нем жила?». Спросить хотела, но вдруг онемела: увидела, как мужчина долго и пристально смотрит на нее. И странно робко и глухо прозвучал его голос:
— Ты меня не узнаешь?
— А отколь ты меня знаешь? – решилась спросить баба Оля. Но он будто не слышал ее и вновь спросил:
— А сколько тебе лет?
— На Ольгу, в июле, восемьдесят четыре будет.
— Я так и полагал, — обратился мужчина к своей спутнице. А потом:
– Давай сядем, стоять тебе тяжело.
И они сели на лавочку у дома. Ольга Петровна посередине, пришедшие — по обе стороны от нее. Баба Оля пристальнее вгляделась в моложавую, лет сорока пяти женщину:
— Жена ли она тебе коренная или еще кто, молода больно?
— Жена, а что моложе меня, так я ведь после войны женился, на фронт совсем мальчишкой уходил.
— А здесь какими судьбами оказался? – полюбопытствовала баба Оля.
— Мы были в Великих Луках, у друзей моих фронтовых, и захотели сюда приехать, посмотреть, — как-то непонятно ответил мужчина. И почему-то от этих неясных слов, словно что-то тягостное навалилось на бабу Олю, что-то затревожило, зазнобило, и при ее всем известной сдержанности она вновь решилась на вопрос.
– А все же к нам, в Городец, какая забота привела? – спросила и, сама не зная почему, цепко, открыто глянула в его карие глаза.
А он добро, словно жалеючи, окутал ее своим теплым взглядом.
– Фронтом я здесь проходил, – и опустил глаза.
И замолчал. Задумалась и жена. Затихла баба Оля. Только слышно было, как по озеру застрекотала моторка, да невдалеке переговаривались соседки.
Но вот, словно очнувшись, жена его украдкой взглянула на бабу Олю:
— Так не узнаете его?
— Где ж признать, тут много народу фронтом проходило, упомнишь ли всех. Ить сколько лет прошло.
— А ты извещение с фронта на кого получала? – не поднимая глаз, вдруг спросил мужчина.
— На мужа похоронка пришла.
— Значит, за мужа пенсию получаешь?
— Нет, свою получаю. В колхозе нашем «Память Ленина», считай, до семидесяти лет на ферме работала. На пенсию с почетом провожали, слова добрые говорили, вазу хрустальную подарили и много-много чего.
Ей почему-то захотелось показать этим людям и вазу, и другие подарки, и весь свой большой, теплый, обихоженный дом. Подумала: «Что со мной, с чего так растерялась, в дом не веду? Дак полы-то крашенные, не просохли, не пройти через сени, а задами не почет гостей вести», — мысленно оправдала она себя. И вновь услышала голос седого человека:
— Значит, убит муж?
— Не убит был, хотя и похоронка пришла, а ранен в ногу, в плечо попал. Освободили в сорок пятом. И аккурат в Октябрьскую пришел. Я было рухнула, увидевши его, — радости сколько! Да ненадолго: заболел и июнем сорок шестого помер, видно, ослабши был в лагерях.
— А где похоронен?
— В Добром. И надпись есть.
Опять задумалась баба Оля, вспомнила то гиблое лето, когда из нежданно счастливой опять стала вдовой, но теперь уже навсегда. И услышала, как упали и мучительно трудно прозвучали тяжелые, глухие слова:
— А на сына не было похоронки?
«Батюшки, а про сына отколь знает, что был сын»» — охнула баба Оля, и мгновенно этот немой вопрос отдался где-то в затылке острой резкой болью. И ответила:
— Нету ни похоронки, ни «без вести пропал» — ничего не было про Михаила.
И в памяти всплыло последнее, что слышала о сыне: шли солдаты в разведку под Осташковом, на Калининском фронте. Немец огнем поливал. Упал Михаил и крикнул: «Братцы, помогите, погибаю!» Да где там «помогите», погнали их пули. И больше его ни живого, ни мертвого никто не видел. И в часть свою не вернулся. А место вскорости немцы заняли.
Но почему-то ничего этого не рассказала баба Оля незнакомцу, задумалась. И седой человек замолк, и жена его коротко вздохнула и смолкла.
— А где живете, в каких местах? – первая спросила баба Оля.
— Далеко живем.
— А куда путь держите, к дому?
— Нет, в Минск едем, по приглашению на праздник освобождения. Как ветеран и освободитель.
— Слышала я, аккурат по радио объявляли про Минск.
И вдруг увидела: опять остро смотрит на нее седой человек, уж так остро. Седая прядь его свесилась на лоб, и проглянули по бокам залысины.
И что-то опять зазнобило, мучительно, смутно заныло в сердце. Что же это? Али жалко стало отчего-то поседевшего человека, по-матерински жалко.
— А что же ты такой седой, ведь не старец еще?
— Не очень старый, правда, а вот седой. Война поседеть заставила, да болею много, видно война сказывается.
И опять мучительно:
— Так не узнаешь ты меня? Так и не узнаешь?
— Нет, не признаю, уж не сетуй.
И почему-то стало ей так неловко перед этим человеком, который настойчиво добивался, чтоб его узнали. Так стыдно, что захотелось уйти, спрятаться от этих людей и от смутной ноющей боли в сердце.
— Нет, не признаю, — повторила баба Оля и поднялась было с лавочки.
Но вдруг:
— А сын твой меньшой, Николай, где живет? Помогает он тебе?
И вновь охнула от неожиданного вопроса баба Оля. Отколь он про Николая-то знает? Но ответила:
— Помогает. Приехавши, дров нарубит, крышу летось покрыл, надолго хватит, а живет он в Западной Двине, хорошо, семьей живет.
— Это хорошо. Да ведь и родные есть у тебя и здесь, и в Осташкове, и соседи хорошие. Жива ли Зинаида? Нееловы? А дедушка Петрушка Балабанов? Из Ананьевых кто жив? Ты ведь согласная, видно, дружно с родней живешь.
Задохнулась баба Оля и дух не перевести, словно плетьми ее охаживают. Что ни вопрос, то плеть.
Потом, спустя многие дни, а особенно – долгие ночи, лежа за печкой, все спрашивала себя баба Оля: «Да как же не удержала их, в дом не ввела, не выпросила, отколь он все знает про меня, про родню мою кровную? Ить и соседки любопытничали, недалеко стояли, видно, слушая их беседу, да стеснялись, не встревали, а надо было…»
Это потом она все вспомнила, как падали его слова: «Так не узнаешь ты меня?». А тогда только произнесла тихо:
— Да дружно живем с соседями, родни уже мало осталось, а так – живу хорошо.
И тогда поднялся седой человек, и жена его поднялась.
– Ну прощай, будь здорова на долгие годы, а нам уже в путь пора, вон, видишь, от Острова к нам пароход идет!
Она обратила свой взор на озеро. И впрямь, белый корабль уже пересекал сизую от нависших туч озерную гладь, направляясь к Городцу. И они неспешно пошли по узкой зеленой тропинке вниз с косогора, мимо дома дедушки Ефима и бабушки Сани, к седым деревянным мосткам пристани.
А баба Оля пошла в дом. Осторожно пробралась в сенях по крайней, у стены, половице – краска еще не подсохла – и распахнула дверь в комнату. Прямо на нее с большой, в круглой раме, фотографии на стене добрыми карими глазами смотрел мальчишка лет четырнадцати: черная прядь свесилась на середину лба и по бокам открылись мягкого контура залысинки. Ее старшенький, Мишенька, тот, что ушел в сорок первом в разведку и в часть свою не вернулся. И больше никто не видел его ни живым, ни мертвым.
***
Я приехала к Ольге Петровне через два дня, когда она уже исходила нечеловеческой мукой:
— Не узнала я сына, не узнала! Он вкладал мне в голову, вкладал, а я не уразумела. И сердце ить болело, подсказывало. Это мой Михаил приходил, мой старшенький….
А люди, жалея ее, много горя принявшую за долгую жизнь, говорили:
— Ошибаешься ты, баба Оля, если б жив был Михаил, разве не объявился бы он за столько лет, ведь сколько лет уж с Победы прошло!
— А видно, не мог объявиться.
— Значит, жил не по правде.
— Нет, по правде он жил, не мог не по правде: и сын был хороший, заботливый, и работник из первых. И не звали бы его в гости в Минск как освободителя.
— Почему же он сейчас, приехавши, не признался?
— За сердце мое боялся, думал, рухну — и все тут. Ить раз не признала я его, дак порешил – отплакала уже сына и пусть доживает в покое. Нет, он хороший сын. Сказать бы ему теперя, что признала я его, совсем признала, дак он бы и откликнулся. Только как ему знать-то дать? Как найти его? Помогите люди, помогите…
Галина Снитовская